Как книжку татарина в Киеве подковали
В киевском издательстве «Каяла» вышла книга Аделя Хаирова о житье-бытье в провинциальной Казани конца 60-х — начала 70-х годов, о татарах Поволжья и ещё о такой малочисленной «народности», как чудаки.
В киевском издательстве «Каяла» вышла книга Аделя Хаирова о житье-бытье в провинциальной Казани конца 60-х — начала 70-х годов, о татарах Поволжья и ещё о такой малочисленной «народности», как чудаки.
Река Каяла, в честь которой названо издательство, упоминается в произведениях древнерусской литературы — Ипатьевской летописи и «Слове о полку Игореве». В 1185 году возле Каялы произошло сражение князя Игоря Святославовича с половцами: «и во веселиа место желю на реце каялы» («и вместо веселья — горе на реке каяле»).
Для читателей журнала мы подготовили небольшую подборку рассказов из новой книги нашего постоянного автора.
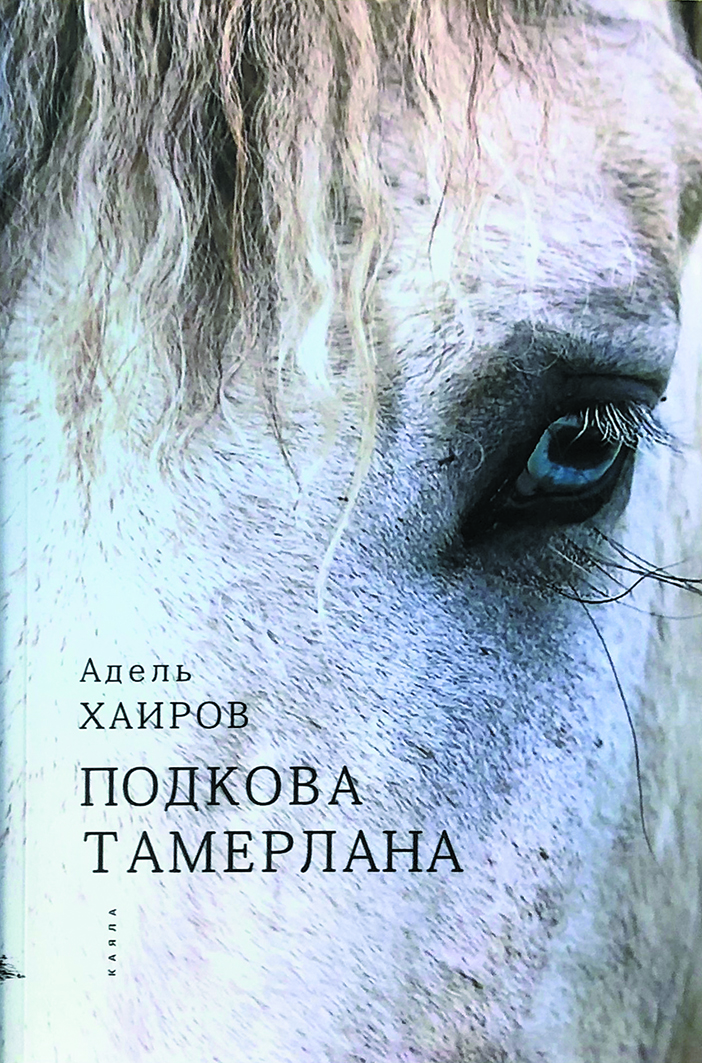
Адель Хаиров
Подкова с обочины
«О детстве-отрочестве-юности неподалёку и где-то рядом писали многие, каждый со своим личным придыханием, столичным или не очень акцентом и авторской, как водится, интонацией, но в случае с прозой Аделя Хаирова его рассказы о прошлом — это ещё и роскошная экзотика, забытое пиршество красок вроде живописи Сарьяна и Пиросмани…»
Игорь Бондарь-Терещенко, литературный критик
Листочки из блокнота
Оглядываясь назад
Боже, какой я старый! Я ещё помню, как в почтовых отделениях Казани стояли чернильницы-непроливашки, а рядом лежали красные палочки с ржавыми перьями, которые хорошо царапали бумагу. Сургуч варился в заляпанной кастрюльке, как шоколадный крем. Стучал молоточек, запечатывая бандерольки и посылки в фанерных ящиках. Тёплые волны исходили от побелённой печки, на ней плакали крупными слезами чёрные валенки и вязаные рукавички. Пахло натопленной избой.
Летом бабушка с дедушкой брали меня на пароход, и я смотрел с верхней палубы, как шлёпало по воде гребное колесо, взбивая плитцами Волге изумрудные кудри. Как-то дедушка в полосатой пижаме, расположившись в шезлонге, показал свёрнутой в трубочку «Правдой», которой он гонял ос, на крутой берег, где в поле копошились букашки, и сказал мне: «Это крестьяне, они сажают картошку». В это время за его спиной поднялись деревянные жалюзи окошка, и из сумрака каюты сначала выплыло свежее арбузное облачко, а затем рука бабушки протянула нам два ярко-красных ломтя в глубокой тарелке. Я пытался доплюнуть семечками до берега, не получилось...
А сегодня вдруг вспомнилось, как, жарким июньским полднем в начале 80-х, я заснул в стоге сена, который накосили в университетском дворике. Разбудили меня влажные губы, которые шлёпали и фыркали у самого уха, выбирая сочную траву...
Роясь в бумагах
Нахожу в своих папках с тесёмками разрозненные тетрадные странички, ещё написанные чернильной ручкой. Почерк пляшущий, несмелый. С годами выровнялся, полетел и стал походить на арабскую вязь. Потом у меня появилась печатная машинка, сначала массивная, как уменьшенная копия кассового аппарата в Елисеевском магазине CONTINENTAL, затем грустная «Москва» в унылом дерматиновом чемоданчике, и в конце «крутая» в пластмассовом кейсе — бело-розовая UNIS TBM de Luxe. В советских фильмах, снятых в Прибалтике, на ней печатали исключительно дипломаты или шпионы.
Если «Москва» лупила туда-сюда по бумаге, то UNIS аккуратно выщёлкивала буквы своими железными пальчиками. Никогда бумагу не жевала. Её сменила электромашинка «Ромашка», она строчила как пулемёт. Стоило пальцу задуматься, как тут же расстреливалась целая обойма буквы, к клавише которой слегка прикоснулся. Выходило красиво, например, ёёёёёёёёёёёёёёёёё...
Печатная машинка в сравнении с компьютером всё же была более живой с индивидуальными отклонениями молоточков: то буковка «г» на бок завалится, то «о» насквозь два экземпляра бумаги вместе с копиркой пробьёт, то «ж» майским жуком куда-то вверх поползёт. С машинкой ещё можно было ласково разговаривать и слышать в ответ её утробный колокольчик. А вот с компьютерами уже не общаются, их посылают куда подальше...
Царской рукой
В запаснике краеведческого музея во время съёмок телефильма об «ампираторе» Емельке Пугачёве мне удалось подержать в руках письмо самой Екатерины. Четвертушка пергаментной бумаги, обрызганная маслянистыми духами, выцветшие завитушки, неясный кособокий почерк, но удивительно сочный сургуч оранжевого цвета с оттиском её перстня. Разобрал одну лишь фразу: «Считать происшедшее как бы не бывшим!»
Речь шла об убийстве...
Вот так, одним росчерком пера, подправлялись судьбы.
Предсмертная записка
Когда прочёл предсмертную записку Марины Цветаевой: «Я тяжело больна. Дальше было бы только хуже! Я устала вековой усталостью!», то увидел всё, что было на самом деле, как будто бы сидел в соседней комнате. В подлинных документах имеется некая скрытая сила, способная разбудить видения из прошлого. И не надо ничего придумывать, нужно только прикрыть глаза… Вот Цветаева выламывает спичку из «расчёски» (были такие в военные годы — одной щепой с зубчиками), поднесла к самокрутке, обожгла пальцы. Труха махорки просыпалась на маленькую записную книжку, обтянутую сафьяном. Она нащупала в кармане пиджака карандаш, который привезла в Чухлому (так насмешливо называл Елабугу её сын Мур) из Парижа. Это был огрызок, и он уже заканчивался…
8 октября 1992 года, как раз на столетие Цветаевой, я оказался в Елабуге. Помню улицу с хмурыми купеческими домами, выстланную влажными листьями. Медное самоварное солнце кипело в окошках. Никаких торжеств не проводилось. С автобуса я направился на кладбище, по дороге хотел купить цветы, но на рынке продавали только картошку и лук. Цветочных магазинов не встретил, зато нашёл рюмочную. И вот, поднимаюсь на холм, на обочине «слепоты куриной и маков набрав букет», подхожу к кладбищенским воротам. Увидел новенький голубой крест, прислонённый к ограде (она где-то писала, что хотела бы крест, выкрашенный голубым). Шёл наугад и, сквозь заросли, набрёл на её камень. Покачал цепь, почитал стихи:
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
Потом спустился к её домику, посидел на щербатой лавочке у ворот. Внутрь постучаться не решился. Покурил. Мне было хорошо, даже блаженно. Вокруг в траве-мураве копошились курочки. Остывшее солнце мутнело. Я прислонился к избе и услышал скрип половиц и старушечьи вздохи. Мне показалось, что она дома. Сидит, закрывшись нечёсаными волосами, и что-то записывает карандашиком в свой карманный блокнотик.
Запомнилось из чьих-то воспоминаний, что Марина перед тем как накинуть на шею верёвку, нажарила для Мура большую сковороду лещей.
Вижу маленькую тихую комнату и квадратную шляпку кованного гвоздя над косяком, который потом расшатал и вырвал Евтушенко. Хозяйка не смогла её снять, ведь покойники сразу тяжелеют. Мимо проходил какой-то рослый рыжий парень. Он помог, как будто делал это каждый день. Положил тело во дворе на траву и пошёл себе дальше. Прибежал с рыбалки Мур, побросал вещи в чемодан, и испарился...
Сорочка барышни
Когда из опломбированных сейфов Национального музея Республики Татарстан извлекли на свет божий полуистлевшую сорочку конца XIX века, я не сразу-то и понял, что это исподнее. Этим летом на улицах Казани я видел много девушек в таких же сорочках. О, нравы!
Раньше поверх сорочки надевали ещё столько всего, что на «отбой» барышне надобно было потратить не менее получаса, чтобы расшнуроваться и целиком разоблачиться. Усатый гусар к этому времени засыпал на канапе. Для него благородная девица представлялась очередным редутом, а всякие там французские рейтузы и корсеты играли роль фортификационных сооружений.
Старинный корсет был выполнен из китового уса и костяных пластин, вложенных в пазы. Это больше походило на рыцарские доспехи, чем на бельё. А шнуровка? Специально измерили один шнурок, оказалось — два метра!
Для того чтобы женская фигура выглядела более соблазнительно, юбку стягивали с помощью жгута, который назывался «паж», «в рюмочку», а изнутри, чуть ниже пояса, подшивали два удлинённых валика. С тех пор год за годом, век за веком женщина высвобождалась от лишнего груза, как каравелла, попавшая в шторм. В результате осталась одна флёрная сорочка...
Я мну её тайком от музейного смотрителя. Белое тело, поверх которого когда-то струилась сорочка, давно рассыпалось в прах, а имя барышни стёрлось с замшелого камня. Грустно как-то...

Бывшие даниловские бани
Только произнёс слово «баня», как тут же в нос ударил острый забродивший запах мочала, мокрых потных веников, преющих в куче на выходе. Уши накрыл грохот тазов… Это были старые даниловские бани — «с водопроводною водою; номерные и ванны, дворянские и общенародные» — на улице Большой Красной. Здесь мылилось пол-Казани. Помню отсыревшее здание полукруглой формы, все стены в подтёках, а из чёрных окошек пар валит. Внутри толпятся угрюмые люди, вдоль стен бесконечный ряд серо-зелёных лавок, по которым медленно движется очередь. Надо было, не вставая, немного продвинуть задницу вперёд, так что прихватившие с собой книжки могли, не отрываясь от чтива, ползти к заветной брезентовой ширме. Она прикрывала свечение отмытых тел и приглушала радостный гвалт помолодевших людей.
Когда, наконец, подходила наша очередь, и я проникал за тяжёлый занавес, то некоторое время стоял в замешательстве. Застёгнутый на все пуговички (в коридоре гуляли сквозняки), в шапке-ушанке с резинкой, я ждал, когда отец отыщет двойное место и приберёт там немного. Вокруг меня шлёпали нагишом люди, прыгали с газетки на газетку, распивали чаи из ярких китайских термосов, а кое-кто доставал из нутра портфеля водочку с фиговым листиком от веника вместо отклеившейся этикетки.
Желая сравняться со всеми, я быстренько сбрасывал одёжку и тянул отсыревшую дверь, чтобы скрыться в клубах пара. Через ошпаренный часок, оглохший от тазиков, обомлевший и захмелевший от берёзового листа и распаренного мочала, одетый во всё чистенькое, я выныривал из-под брезентового занавеса и смотрел на грязную очередь с сожалением.
Впереди ожидала буфетная. Это был деревянный павильон внутри бани, нехитро украшенный реечками и плакатами общепита, что-то вроде: «Пейте берёзовый сок. Он полезен для здоровья!» Помню, отец предпочитал томатный, а мне брал кольцо с орехами и стакан молочного коктейля. Съев кольцо, я принимался склёвывать упавшие орешки с лощёной бумаги.

Александровский пассаж
Василий Аксёнов в последней и неоконченной повести «Lend-leasing» так вспоминал своё казанское детство:
«Вместо того, чтобы растянуть эти свои талончики на две недели, она собрала всё семейство и двинулась в «Пассаж», под стеклянной крышей которого как раз и располагался основной питательный пункт. По мраморной лестнице со стёртыми ступенями лепились очереди голодных. Что ещё запомнилось? Как ни странно, обилие света. Остатки кафеля на полу и на стенах отсвечивали солнечные лучи, проникающие сквозь разбитый грязный купол. Беспорядочно порхали воробьи и зловеще кружили вороны. К концу войны этот купол, кажется, обвалился. В меню было одно блюдо — «горячий суп с капустой». Отнюдь не щи и уж, тем более, не борщ. Подсобники с красными повязками вываливали в котлы с кипятком обмороженные кочерыжки с какой-то ботвой…»
Питательный пункт, где выдавали «горячий суп с капустой», по всей видимости, находился на втором этаже в помещениях некогда блистательной ресторации «Пале де Кристаль» (Хрустальный дворец).

Сегодня Александровский пассаж напоминает «Титаник», такой же огромный с кручёными чугунными лестницами, нанизывающими «палубы». Когда-то он шумел, как муравейник, а теперь гудит пустотой…
Помню, как мы с мамой опаздывали на сеанс в детский кинотеатр «Пионер», который находился в Пассаже в дальнем углу за фонтаном. Стояла июльская жара. Пломбир выскочил из бумажного стаканчика и липким снежком украсил мне сандалик. Тут же подбежали котята и стали слизывать. Мама потянула меня за руку. И вот мы очутились в приятной прохладе. Рассеянный свет проникал сквозь стеклянный купол. В нишах — олени с рогами и нимфы с неприкрытой грудью. На огромной шахматной доске из коричнево-белых плиток неспешно передвигались фигурки людей. На первом и втором этажах работали магазины, ателье мод, мастерская по ремонту часов, что-то ещё... Стояло лёгкое эхо от гула шагов и голосов. Я даже обернулся на женский шёпот, но за спиной — никого. Женщина говорила мужчине в другом конце зала. Впереди высилась потемневшая бронзовая фигурка барышни с ребёнком — это был фонтан с вялой струйкой. В зелёной чаше барахтались воробьи.
Если посмотреть наверх, то появлялось странное ощущение, как будто ты смотришь с пирса на океанский лайнер. По этажам-палубам прогуливались пассажиры. Тихо звучала музыка. Девочка развернула конфетку, и фантик закружился в пространстве. Потом я оказался в Пассаже в дождь. Струи стучали по стеклянной крыше, а внутри было сухо и тепло. Прохожие, стряхивая капли с пиджаков и курточек, забегали сюда. И мне это показалось волшебством — в городе дороги превратились в реки, а в этом дворике образовался островок, где спасаются люди. Окон, выходящих на улицу, не было, и все поглядывали на прозрачный купол. Он мелко дрожал, снаружи ползали большие пузыри со сбитыми тополиными листочками. Мы стояли как в аквариуме. Помню золотых рыбок — девушек в мокрых красных плащах, среди которых я ощутил себя незаметной гупёшкой.

Бабушкины пирожки
Во сне открыл входную дверь в свой дом на улице Тихомирнова в Казани. Ощутил её вес и вспомнил запах в сенях — сладковатый, пыльный. Деревянные ступени попискивали как котята, на них всегда были кляксы от коромысла.
Вошёл в свою квартиру, а там окошко распахнуто в сад. Шторка бултыхается. В зале для меня накрыт обеденный стол: по-бабьи повизгивал электросамовар, изумрудно светилось крыжовенное варенье, абрикосово-абрикосовое. Стол в луче солнца ликовал всполохами. Над курицей висел жёлтый ореол жира, варёная морковь бросала на скатерть оранжевые полосы, в небольшой плошке квадратом Малевича мерцала осетровая икра. С обжигающей горки молодой картошки неумолимо скользил вниз, разрушаясь, куб сливочного масла.
Бабушка нажарила целый тазик пирожков с малиной и накрыла их салфеткой. Её руки в муке, и я уворачиваюсь от объятий. Она что-то спрашивает, но ответить не могу. Пирожок мешает!
После обеда меня ждал полумрак спальни, где окна запирались ставнями изнутри, на тело накатывали волны стёганого одеяла с узбекским орнаментом, накрывая с головой. Под кроватью слышалось чревоугодное потрескивание запасённых впрок огромных астраханских арбузов, которые в дом затаскивали матросы двухпалубного парохода под названием «Семнадцатый год» (до революции он именовался «Двенадцатый год», в честь Бородинского сражения). Матросы были в тельняшках, арбузы — тоже. Один выскользнул из потных ладоней и радостно поскакал по ступенькам. На последней подскочил и раскроил себе голову о косяк. Сахарные мозги потекли по стене…
Казань в июле превращалась в южный городок — легкомысленный, позабывший напрочь что такое зима. Может её больше не будет, и надо бы продать шубу с малахаем! Извините, а снег, он какой? Вы помните? Неужто похож на пломбир за девятнадцать копеек?
Мороженщица на углу, открывая короб, шарит в леднике, нащупывая заиндевевшие брикеты и вафельные стаканчики. Нарочно тянет, наслаждаясь холодным паром. Красные пальцы у неё в снежке. Она на них дует, отогревая. Кто-то в очереди, обтираясь носовым платком, шутит: «Ты бы варежки надела. Не то задубеешь!»
Помню, как сикалки, сделанные из флаконов шампуня «Алсу», весело дырявили июльскую жару, а под вечер во двор важно выходил пожарный на пенсии дядя Миша и резал её струёй из шланга с латунным наконечником. В эти дни, казалось, что, ещё немного, и в палисадниках завьётся кишмиш, а тыквы в огородах засахарятся дынями. На резной веранде с ляжками балясин появятся грузинские князья с полными рогами и, подкрутив усы, затянут «Сулико».
Начитанный старьёвщик
Раз в месяц во двор въезжал на старой лошадке старьёвщик. Прокопчённый на солнце худой татарин в мятой суконной шляпе и халате грузчика. Детишки выбегали покормить его Орлика хлебом и погладить горячий подрагивающий круп. За увесистые кирпичики журнала «Молодая гвардия», который целый год выписывала мама, старьёвщик предложил мне калейдоскоп. Запомнилось, что девочке-соседке за старое пальто он дал пластмассовые часики с нарисованными стрелками и воздушный шарик со свистком.
Отъехав в глубокую тень Шамовского оврага, старьёвщик рылся в макулатуре и, отыскав какую-нибудь интересную книжку, ложился поудобнее на ворох старого тряпья. Орлик жевал листья и тянул телегу всё дальше в овраг. Здесь лопухи отрастали высотой с дерево, качалась ржавая, с заусеницами, крапива и шелестела дурман-трава — конопля. Старые шмели с мохнатыми лапками слетались сюда в закатный час. Соседка Нюра хихикала и говорила кому-то: «Нет, нет, нет». Но старьёвщик не видел всего этого и не слышал, он — читал.

Извозчик Самат
В городе лошадей тогда было много, а машин — мало. И, значит, повсюду стоял запах дымящегося навоза, свежескошенного сена и лоснящегося перламутром на конском крупе пота. В бакалеях имелась даже штатная единица — «извозчик с гужевым транспортом». В соседнюю «Булочную» именно лошадка доставляла с хлебозавода горячие буханки и батоны. Деревянные промасленные от долгого использования поддоны вставлялись в отсек под углом, чтобы хлебобулочные изделия скатывались вниз по мере убывания. На верёвочке висела длинная ложка, ею покупатели определяли свежесть.
Интересно, как выдавали зарплату самой лошади? Может, хлопьями «Геркулес»?
Хорошо помню одного такого извозчика — Самата. Высокий, сухопарый, в брезентовом плаще до пят. Он казался мне богатырём. Пока лошадь, опустив морду в холщовый мешок с корками, вкусно хрумкала, он перетаскал привезённые доски на дачный участок. Я забрался на телегу, взял в руки вожжи, крикнул «но-о-о» и тут же перестал мечтать о скафандре Гагарина, мне захотелось стать извозчиком, таким, как Самат! Я даже подумал, что такое имя дают всем извозчикам, потому что оно заканчивалось на «ат» — «лошадь».
Самат подошёл, раскрыл широкую ладонь с красной печатью подковы и сказал: «Ыслушай, не подходи к нему сзади, а то она лягает!» Затем показал обрубок мизинца и вздохнул: «Спереди, малай, тоже не подходи — она кусает!» Я, перепуганный, отбежал от лошади.
Самата позвала бабушка, попросила выкопать высохшую яблоню-трёхлетку. Он, отстранив лопату, ухватил деревце одной рукой за ствол, потянул и легко выдернул из земли.
Деревенский житель в своей родной стихии, запрягает ли он лошадь, тюкает ли по бревну топором, шелушит ли в чёрных пальцах зерно... — красив и благороден. И не приведи Аллах перенестись ему с сельских просторов, пронизанных солнцем и ветром, в узкий и сумрачный, как темница, заводской цех на окраине города с забегаловкой у проходной. Всё — угаснет лесной цветок!
Самата только родная лошадь и выручала. Думаю, любил он её, несмотря на отбитую ладонь и откушенный палец, как жену, а может, и больше! Недаром у татар есть поговорка: «Умный хвалит лошадь, дурак — жену».
Подкова с обочины
Подобрав на обочине подкову, я представил себе играющие на солнце мускулы ахалтекинца, который жевал ромашки. Лепестки залепили ему губы. Налетел полынный ветер и засвистел, поманив в степь. Скинув железо с копыт, конь рванул за ним...
С тех пор подкова, отшлифованная до блеска, хранится у меня под диваном, напоминая о далёких предках, которые большую часть жизни проводили в седле и потихоньку превращались в кентавров.
Помню, как ранним утром по пятикилометровой дамбе, которую возвели близ Казани от большой воды с Волги, шли-тянулись бесконечные подводы, скрипя колёсами, бренча бубенчиками под дугой, стуча пустыми вёдрами, прикреплёнными к облучку. Лошадки, как хохлушки, были украшены разноцветными лентами, в гриву вплетены полевые цветы, чёлки кокетливо подстрижены. Оглобли и дуги свежевыкрашены, колёса очищены от навоза, в телегу на сено брошено старое лоскутное одеяло.
Баянисты, разминая пальцы, пробегались туда-сюда по гладким кнопочкам, похожим на таблетки, громко зевали, и заодно с ними раскрывали свои алые рты немецкие аккордеоны. Татары в телегах шумели, приодетые к празднику. Белые пятна рубах, бликуя, мялись снежными комьями, вышитые золотым гарусом тёмно-зелёные распахнутые жилетки топорщились на ветру, как жёсткие крылья июньских жуков. Скуластые, жилистые, уже закопчённые с мая месяца лица светились в предвкушении байрама.
С шести до девяти утра скрипели телеги, съезжаясь к Берёзовой роще у озера Кабан, где в июне устраивали городской Сабантуй. Под дамбой стояла наша дача — голубой домик, окружённый смородиной и малиной. Было мне тогда лет шесть.
У дороги, за забором, мелко шумели раскосыми листочками старые ивы, и в проёме деревьев, как на сцене, ехал и шёл, приплясывая, весёлый народ. Я выносил складной рыболовный стульчик и смотрел на неизвестных мне деревенских татар. Пёстрая звенящая лента из нарядных телег тянулась и час, и полтора...
Соседи, Марзия-апа и Джапар-абый, бросали мотыжки и лейки, выходили из своих калиток и глазели на соплеменников, с которыми они давно уже утратили связь, отгородившись холодными панелями хрущёвок со всеми удобствами.
Обратно с Сабантуя телеги возвращались в разнобой. Казалось, что и лошадки были пьяненькими. В телегах, прямо на мягкой горке из городских булок и бубликов, вповалку спали татары, утомлённые жарой и весельем. Бубенчик устало бубнил. Гармонь, вырвавшись из ослабевшей ладони, выплёскивала в горячую дорожную пыль торопливую кучу звуков. Иногда кого-то теряли, а потом возвращались и кричали осипшими голосами, рыская в тальнике вдоль дамбы: «Гайфулла, син кайда?»1, «Акрамбай, тавыш бир!»2
А утром мы с пацанами находили на дамбе медные деньги, ключи от амбаров, мятые тюбетейки, а ещё рассыпавшиеся и расплющенные карамельки. Кисло стягивало зубы жёлтое тельце конфеты с лимонной начинкой. Для меня это был вкус Сабантуя!
Когда я уже оканчивал школу, телеги с татарами куда-то пропали. Редко-редко проскрипит колесо по пыльной дороге. И осталась у меня от того времени и мифического народа лишь погнутая и истёртая подкова. Глядя на неё, опять слышу грустный баян и озабоченные голоса, которые ищут вывалившихся из телеги закадычных приятелей Гайфуллу и Акрамбая. Кажется, их тогда так и не нашли.
1 Гайфулла, син кайда? (тат.) — Гайфулла, ты где?
2 Акрамбай, тавыш бир! (тат.) — Акрамбай, отзовись!
Фото: Ната Смирнова, Адель Хаиров, Наиль Хадеев.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа









Нет комментариев